Метареалисты
и другие
Рафаэль Левчин
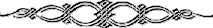
I
 - …Могу рассказать, как я охотился в Африке на львов с Хемингуэем,
а Эренбург подарил мне русский самовар. Могу рассказать,
как я встретил в трамвае Павла Зурзмансора и что он мне сказал...
- …Могу рассказать, как я охотился в Африке на львов с Хемингуэем,
а Эренбург подарил мне русский самовар. Могу рассказать,
как я встретил в трамвае Павла Зурзмансора и что он мне сказал...
- Вы в самом деле знаете Павла Зурзмансора?
- Нет, - ответил Виктор. - Я пошутил.
А.Стругацкий, Б.Стругацкий,
"Гадкие лебеди".
|
Одно из придуманных Парщиковым созданий носило имя "павлик", и впоследствии мы часто употребляли его как синоним слова "дебил". Другое - "колощатка", гигантский кролик с колесами вместо передних ног, обитающий в Австралии…
Мы познакомились с Алешей в 1973 году. У него в комнате над кроватью висел выдранный (натурально, именно выдранный, а не вырезанный) из газеты портрет молодого Вознесенского… Когда я спросил его, знает ли он такого поэта - Мирослава Валека (его я в то время как раз начал переводить), Алеша обиженно ответил: "Откуда? Как ты думаешь, сколько мне лет?!"
Ему было около девятнадцати, а мне - двадцать семь…
В таком духе можно продолжать довольно долго - например, как мы вчетвером (моя жена, я, Алеша и его щенок-дог Прошка) однажды пили вино и заедали соленым огурцом, откусывая от него по очереди, в которой щенок был третьим. Вино было в канистре для непищевых продуктов, и мы все слегка отравились.
Прошка, надо сказать, был очаровательный пес. Величиной с небольшую пантеру, с хвостом, как стальная пружина, с торчащими ушами, которые догам почему-то полагается подрезать и которые Парщиков подрезал ему как-то не так, Прошка впоследствии, когда Алеша перебрался в Москву, попал к другому хозяину, переименовавшему его в Поля.
"Звала Полиною Прасковью…"
Я сижу ("…в своем саду, горит светильник…") за компьютером и набираю этот текст. Набираю, а не пишу. При нашей последней встрече с Парщиковым, лет семь тому назад залетевшим в Чикаго, где я обитаю с 91-го года, он спросил, какой у меня компьютер, и прыснул на мой ответ, что, мол, пишу по старинке от руки… Кажется, и тут выходит не по-моему. Вставленный в тот же компьютер лазерный диск выдает крики дельфинов - надо полагать, брачного периода…
Не проще ли, однако, взять то, что уже есть - мою же статью "Карлос Кастанеда как зеркало такого себе андеграунда" (REFL., # 5-6, 1994), - и от нее отталкиваться? Там и эпиграфы покруче, вот хотя бы этот, из Брюсова: "И лучший друг пришел к кровати,// И бормоча слова проклятий,// Меня ударил по лицу…"
Хотя мне сейчас - статья написана как-никак лет семь назад - кажется более подходящим такой эпиграф:
Поэты Иван и Илья пьют водку.
Иван говорит: - Пушкин действительно великий русский поэт.
- Действительно, - говорит Илья, - великий поэт.
Но тут кончилась водка.
(В.Вильдштейн, "Идиотизм вареного зеркала").
|
Любопытно, речь о Жданове и Кутике, или это случайное совпадение имен?
Итак, цитирую свою статью:
"О существовании Кастанеды пишущий эти строки впервые узнал от киевского поэта Игоря Винова, впоследствии идейно сблизившегося с организацией "Память" и схлопотавшего за это отнюдь не символический пинок в зад от московского поэта Александра Еременко, если, конечно, не преувеличивает рассказавший все это шведский1 поэт Илья Кутик. Впрочем, когда пишущий эти строки припоминает оголтело-православного Винова последних лет, то склоняется к мысли, что поэт Кутик скорее приуменьшает.
В стихах того же Винова впервые встретил пишущий (в дальнейшем для краткости п.) и слово "андеграунд" (именно в таком написании, коего поныне и придерживается), но спросить о его значении тогда постеснялся. Винов был уже очень продвинутым, уже и Ницше читал, а п. еще нет. Впрочем, не столь уж много времени спустя п. стал осознавать и себя частью оного андеграунда и тем хвастать, как дурень - молодой женой…"
Еще один анекдот. Однажды мы с Виновым и его однокурсницей (для меня это был, кажется, третий курс Литинститута, для него, значит, второй) ехали в электричке. Девица положила ноги на противоположную скамью. Сидевшая в том же вагоне поддатая компания сделала ей замечание. Слово за слово, и они кинулись нас бить. У Винова были спадавшие до плеч волосы из-под шляпы. Ему сказали: "Ну, ты, поп, отойди!" - и Винов скромно отошел, оставив меня с толпой один на один. Я - тоже, что и сказать, ума палата - уперся ладонью в физиономию ближайшего ко мне нападающего и как-то, абсолютно того не желая, ухитрился исцарапать его ногтями до крови. Как - не могу понять. Допустим, у меня были нестриженые ногти, но не до такой же степени! Так или иначе, увидев кровь, нападающие мгновенно превратились в жертв нападения и завизжали: "Он ему глаза выцарапал! Милиция! Милиция!!"
Тут же, как чертик из коробочки, появился молодой милиционер, но, к счастью, он сразу увидел, что они пьяны, а мы трезвые, и посоветовал мирно разойтись подобру-поздорову...
"…но это было позже, а тогда Винов, вручая п. пачку машинописных листков (умереть и не встать, сколько всего поколение п. читало в самиздате! первым, что припоминается, была "Оза" - и кто сегодня на трезвую голову поверит, что когда-то Вознесенского читали в самиздате?!!) с завлекательным названием "Сказки о силе", строго предупредил:
- К этой книге надо отнестись всерьез. Не просто как к литературе…
П. отнесся - и продолжает относиться - очень всерьез, тем не менее именно как к литературе. Как к литературе, относится п. также к Библии, Дхаммападе, Ригведе, Эдде и так далее. Сакральность не отменяет и не заменяет литературных достоинств. Возвращаясь к "Сказкам" - уже после того, как п. их прочел, выяснил, что это, условно говоря, том четвертый, нашел постоянный источник Кастанеды и стал усиленно пропагандировать среди друзей, знакомых и недругов, которых уже тогда было немало… - в совпечати появилось первое упоминание: в журнале "ВопЛи"2 среди прочих родимых пятен буржуазной культуры были названы "психоделические романы Карлоса Кастанеды". Любопытно отметить, что первый, рукописный, сборничек поэта Парщикова, подаренный им некогда п., ныне утраченный и практически предвосхищавший все, что есть интересного у концептуалистов, назывался "Психоделики"3.
Итак, параллельно с погружением в мир Кастанеды, пересекающийся с мирами "Центра циклона", "Похождений вынужденного мессии" и т.п., падавшими, в свою очередь, на почву, взрыхленную Судзуки (кажется, "Железная флейта" была раньше всех), происходило все большее отождествление себя с миром андеграунда. В данном контексте это означает - альтернатива официозу, что опять-таки понималось более чем широко. Кастанеда мощно овладевал умами и давал причудливые результаты, на которые сам едва ли рассчитывал. Возможно, будущие исследователи еще определят степень влияния Кастанеды в том, как и когда поколение п. стало "выключаться" из мира, в который оно было "включено", и уходить в дворники, истопники, сторожа, монтировщики декораций, натурщики. С точки зрения п. Кастанеда был для его поколения тем же, чем для пресловутых шестидесятников - Хемингуэй: учителем мужества, иронии и самоуглубления. В значительной мере благодаря Кастанеде поколение п. смогло понять издевающихся над Хемингуэем Воннегута и Дыгата.
Переходя от всего поколения к сравнительно небольшому сообществу, а именно к группе, к которой принадлежал некогда и п., и все упомянутые выше поэты..."
Прерву автоцитату - другой автоцитаты ради (из неоконченной книги "НУ, НЕТ!", глава "Автоинтервью", 89-й год):
"…пишу чуть ли не с тех пор, как себя помню… Окончил Литинститут. Вольнослушатель Восьмого Всесоюзного Cовещания молодых писателей, где услышал:
"…печатать будем тогда, когда научится писать то, что нам надо…" Входил в группу поэтов, которая существовала с 76-го по 81-й год, сменив за это время несколько названий:
"апокалиптики", "энтээр-пантеисты", "постфутуристы"… Входили Игорь Винов, Александр Еременко, Илья Кутик, Алексей Парщиков, Юрий Проскуряков, Александр Чернов; примыкали Юрий Арабов, Иван Жданов, Виктор Зуев, Олег Мингалев, Владимир Потапов, Владимир Мирзоев и др. Группа распалась по инициативе Парщикова. Заикающийся термин "метаметафористы" появился позже… Были время - я стыдился того, что чуть ли не единственный из группы не вышел в печать. Потом стал гордиться: дескать, не "продался"… хотя у меня нет доказательств, что мои бывшие друзья за свои публикации чем-то заплатили. Я могу только предполагать это, зная мир "литературной мафии"… Ну, вот косвенное доказательство: в журнале "Радуга" печатают стихи Парщикова, а вскоре в журнале "Юность" появляется хвалебная рецензия Парщикова на сборник стихов Мезенко, зав. отделом поэзии "Радуги". Хотя Парщиков не хуже меня знает, что Мезенко - не поэт, а графоман, облеченный небольшой властью… Ничего не поделаешь, за выход в печать надо платить. Те немногие вроде меня, кто этого делать не умеет, обречены не вписаться в систему…
- То есть если бы ты умел…
- К стыду моему, боюсь, что да. Я не святой, не аскет, не боец… я просто пишу стихи и хочу, чтобы у них был читатель…"
"…а также многие неупомянутые, нельзя не назвать особо великолепного Юрия Проскурякова, быстро ставшего в группе кем-то аналогичным Кастанеде. Во всяком случае, его тексты были не менее многочисленны и загадочны. Взять хотя бы его поэму в письмах "Полифем"… хотелось бы надеяться, что она не утрачена…"
(В моем компьютере какая-то загвоздка: букву "з" он печатает удвоенной, а то и утроенной, приходится все время править. Это вполне типично для моих отношений с техникой. Так что все-таки выходит по-моему.)
О Проскурякове надо, конечно, сказать гораздо больше. Мы двое оставались последними непечатными из группы: его письмо я взял вместо предисловия к своей первой книжке… как запоздало я его оценил! То есть, разумеется, я ценил его всегда, но, увы, недостаточно; только теперь я понимаю, насколько серьезно Юрий относился к своей профессии - в отличие от того же меня.
"Ну, ты-то понимаешь, что лидеры в группе мы с тобой!" - заявил Парщиков мне как-то. И хотя мне уже тогда было плевать - хоть и не до такой степени, как сейчас - на лидерство, но совсем не было безразлично, что думает обо мне Алексей… Не сразу я понял, что примерно то же самое он говорит, с некоторыми вариациями, многим.
Продолжу цитирование: "…читая Кастанеду впервые несамиздатного, п. испытал сложное чувство радости и огорчения сразу. Привыкши к пиратским, непрофессиональным переводам Кастанеды, часто весьма далеким от литературного русского, п. не столь уж легко освоился с более литературизированным вариантом.
"Место, которое занимает миф в ряду других видов языковых высказываний, прямо противоположно поэзии, каково бы ни было их сходство. Поэзия необычайно трудно поддается переводу на другой язык, и любой перевод - искажение. Напротив, ценность мифа нельзя уничтожить самым плохим переводом. Как бы плохо мы ни знали культуру народа, создавшего миф, он все же во всем мире любым читателем будет восприниматься как миф… Миф - это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удается отделиться от языковой основы, на которой он сложился4".
Конечно же, писания Кастанеды - это мифологические романы. Независимо от степени их документальности. Иначе говоря, это овладение внелогическими, иррациональными коммуникациями.
"Суждения дона Хуана казались произвольными, нелогичными. Я не мог представить жизнь, лишенную упорядоченности. Не хотелось кривить душой и соглашаться с ним просто так. Жить так, как он предлагает, - невозможно5…"
И вот, на протяжении лет, пришедшихся на относительную молодость и время существования группы, проходя по этим многим томам, каждый из которых повествует о тех же событиях по-иному, порой просто отрицает то, что было рассказано в предыдущем (ср. "Все в этой книге - сплошная фома!", "Все сказанное в этой книге может оказаться и ложью", "А вы знаете, книги, что вас уже больше, чем людей?" и т.п.) п. стал - весьма еще смутно и медленно - осознавать нечто.
"То, что мы делаем, - бесполезно. Но прежде мы должны знать, что наши действия бесполезны, и все же мы должны их продолжать, как если бы этого не знали. Это КОНТРОЛИРУЕМАЯ ГЛУПОСТЬ МАГА...
Твои поступки кажутся тебе важными, потому что ты научился думать, что они важны.
Человек знания… знает, что он, так же, как кто бы то ни было, не идет никуда. Он знает, что нет ничего более важного, чем что-либо еще. Он не имеет ни чести, ни величия, ни имени, ни страны, - а только жизнь, чтобы ее прожить… И человек знания предпринимает усилия, и потеет, и отдувается, и если взглянуть на него, то он точно такой же, как и любой, за исключением того, что глупость его жизни - под контролем.
При том что ничего не является более важным, чем что-либо еще, человек знания выбирает поступок и совершает его так, как если бы последний имел для него значение.
Но он знает, что это не так.
С другой стороны, человек знания может выбрать быть пассивным и никогда не действовать, как будто быть пассивным имеет для него значение. И это также будет контролируемая глупость.
Он любит кого хочет или что хочет, но он использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом6".
Принадлежность к андеграунду и к определенной группе, гордость по этому поводу - такая же глупость, такие же выброшенные на ветер силы, время, жизнь, как,
например, колошмаченье головой об стенку в стремлении пробить ее и напечататься. Как утверждает дон Хуан, не потому воины выигрывают свои битвы, что бьются головами о стены, а потому, что берут эти стены штурмом.
- К тому, что случилось, отнесись серьезно. Вчера ночью ты встретился с силой, вступил в грандиозную битву…
- Но ведь на самом деле никакой битвы не было?
- А что вообще есть "на самом деле"? - невозмутимо спросил дон Хуан…
Прервусь - опять ради другой цитаты, на сей раз из неожиданно присланной Парщиковым книжки "Переписка"8:
"…если говорить о поэтах близкого мне склада, то очевидно, что там все еще впереди, потому что для объезда тех мощностей, которые получили раскачку просто до одурения подкожным языком, нужно физиологическое взросление, и, подобно итальянским герметикам или новогреческой плеяде, они получат выразительность на других возрастный ступенях, чем те, кто набрел на материал с более мягкими углами и решениями… Не оплошно и Володя Аристов употребляет слово школа, а не направление, т.е. консталляция обретет полноту только при возникновении учеников, и мне интересно, достигнет ли банда такой кульминации и в какой неожиданной форме появятся пресловутые ученики…"
Банда - выражение, которое я впервые услышал от Парщикова в его приезд в Чикаго. О нас. О нашей бывшей группе. Не сразу привык.
Но, видимо, - это не в бровь, а в глаз.
Банда…
Но, в той же книжке, чуть раньше, Парщиков заявляет: "В Москве у художественной среды исчезли последние намеки на сопротивление, и многие оскотинились. Я никогда не представлял себе Москву такой соглашательской, культуру без андеграунда и авангарда… Художнику необязательно взвинчивать свое достоинство, отказываясь от денег, но жаль, что ни в каком виде ценность неангажированности не существует…"
Надо будет еще вернуться к этому заявлению.
Возвращаюсь покамест к своей статье:
"…Перечитывая сегодня, например, статью А.Ровнера и В.Андреевой "Третья литература" ("Родник", апрель 1990), с безудержными самовосхвалениями: "…время выхода задавленных духовных энергий", "…можно поражаться молодой упругой энергии, алертности9, чуткости… Поразительна была та щедрость, с которой знающие делились с непосвященными, поразительна была готовность непосвященных слушать знающих и следовать за ними…", "для тех, кто впитал Лао Тззе, Дхаммападу и Библию, советская жизнь была несуществующим миром беспамятства и абсурда", "…область трансцедентного становится магнитным центром и главным объектом внимания художника-метареалиста…", "…и в стенах воздвигнутого ими мифа… уже живет и утверждает себя новое время, новый эгрегор…" и т.п., и т.д. - хочется повторить слова дона Хуана, сказанные после того, как Карлос прочел ему отрывок из "Тибетской книги мертвых":
- Не понимаю, почему эти люди говорят о смерти, как о жизни.
Глупо было бы плевать на свое прошлое, открещиваться от своей принадлежности к андеграунду. Но еще глупее не признавать, что наш специфический советский андеграунд - лишь уродливое отражение не менее уродливого официоза. Так что - чума на оба дома ваши! Много ли радости от того, что вместо Веры Пановой всюду станут печатать Леру Нарбикову?
Впору писать памфлет "Кадавр".
В конце одной из книг Кастанеды ученики дона Хуана должны прыгнуть в пропасть, чтобы либо погибнуть, либо, если накопили достаточно мастерства, перейти на другой уровень, что и происходит с большинством из них.
Если для поколения п. вопрос об отношении к официозу был непрост и выражался спектром от тотального отрицания до частичного приятия, то для следующего поколения этого вопроса не существовало. Юная художница и поэтесса Ю.10 всерьез верила, что может стать ведьмой и очень этого боялась. Зато на мучительный вопрос отвечала уверенно и исчерпывающе: "Продаваться не стыдно, как не стыдно есть и испражняться!"
Проведя часть жизни в попытках стать своим в официозе и убедившись в невозможности этого, другую часть - в попытках стать своим в андеграунде и осознании бессмысленности этого, еще одну часть - в глупой гордости тем и этим (мол, воробьи летают стаями, одинокими - орлы…), п. только теперь смог убедиться, что у него, как сказано в книге "Огонь изнутри", нет ничего, что нужно было бы защищать, и научившись у Кастанеды только "остановке внутреннего монолога" (да и то не полностью - или, вернее, полностью, но, как известно, не до конца…), вспоминает слова десятилетней давности, сказанные негодующим другом:
- Ну, и чем ты так восхищаешься у Кастанеды? Что тебя в нем поразило? Все равно, как если бы ты пошел в лес, выкопал елку, принес домой, посадил в кадку и обнаружил, что она - пахнет!..
Тогда п. не нашел, что сказать. Сегодня ответил бы так: религия и искусство произрастают из одного корня - магии. Если бы Гете мог вызвать дьявола, ему не надо было придумывать Фауста.
Не случайно ведь, как подмечено в книге "Сила безмолвия", "поэты неосознанно тяготеют к миру магии; а поскольку они не являются магами, тяготение - это все, что у них есть…"
…Цитировать - особенно себя - легко. Трудно писать остраненно-сдержанно, даже сейчас, столько времени спустя. Сам в который раз пытаюсь понять, почему.
Нужно ли вообще об этом? Может, лучше только о стихах?..
В 1985 году я встретил на улице около своего дома в Киеве Игоря Винова. Группа уже не существовала, но мне тогда было свойственно хранить теплые воспоминания о ней (отчасти этим объясняется сей текст, хотя сантиментов давно уж нету и в помине). Итак, остановились потрепаться. Винов тут же стал мне показывать литинстутский альманах "Тверской бульвар", в котором его напечатали, и рассказывать о каких-то других готовящихся публикациях. Порассказывав так минут двадцать, он спросил: "Ну, а у тебя что?". "А у меня по-прежнему ничего", - ответил я. И тогда Винов произнес фразу, которую не забуду и в аду: "Ну, старик, я же не виноват, что я не еврей!"…
И в самом деле - он же не виноват!
А кто виноват? И что делать?..
Именно Винов попытался возродить группу в 1989 году… Пригласил меня и какого-то странного юношу, чью фамилию я не запомнил, в подвал, который он только что получил во временное пользование - в те занятные перестроечные годы это было просто. На первые же его слова о "группе" я ответил: "Игорь, если ты станешь на улице и будешь кричать: "Ребенок, родись!" - он от этого не родится…"
А недавно мне прислали из Киева статью Игоря - весьма благожелательный, но и весьма виновский отзыв на мою книгу "ВОДАогонь": "…Рафа, как и любого живого поэта, вечно окружали представители бытовой магии и неплохо проводили время. И в Киеве, и в Москве он находился в зоне авангарда, которая сегодня превращена в площадку экономического и метафизического заговоров, то есть культурорологическая11 неуловимость авангарда создает условия для создания симулякров искусства и контроля хан рынком. Поэтому современный художник-авангардист вынужден противостоять не только эстетизированному обывателю с его стереотипами "прекрасного", но и экономическому клану, в который входят и сами собратья по перу. Раф, как мне видится, зачастую не рефлектировал социально-культурные контексты и не всегда осознавал игры, в которых участвовал, но никогда не изменял своей поэтической позиции и (вольно или невольно) магической десимуляции.
Эстетический радикализм выстроил Рафа как поэта, поэтическое событие и личную онтологию вопреки культурной ситуации и вопреки его собственным теоретическим посылкам. Именно это качество, прежде всего, определяет феномен личности Рафа12…"
Парщиков люто возненавидел Винова еще при жизни группы, где-то в начале 80 года. Дело в том, что Винов напечатал тогда статью в журнале "Литературная учеба" (каким роскошным нам казался тогда этот журнал, как мы хотели там напечататься! - и Парщиков напечатался-таки, поэмой "Новогодние строчки", и даже сравнительно с легкими членовреждениями: слово "Кришна" заменили словом "рикша"!13). Не помню, о чем была виновская статья, помню лишь фразу: "Открываю дверь - на пороге стоит поэт с украинской фамилией и арапским профилем…"
Казалось бы, что ж тут плохого - но Парщиков решил, будто Винов таким образом доносит на него, что он - еврей14!!!
Надо было обладать незаурядным воображением Парщикова, чтобы решить, что речь идет о нем (с каких пор Парщиков - украинская фамилия?!), не говоря уж о весьма спорной ассоциации арапского профиля с еврейством - но переубедить Алешу не удалось. Полагаю, это ускорило распад группы (инициатива в этом, как уже было сказано, принадлежала Парщикову).
Вообще Парщикову всегда было свойственно верить, что за ним непрерывно охотятся спецслужбы. Еще со школьных лет в Донецке у него был друг, некто Вася Чубарь. Этот Вася считал Парщикова - тогда просто Алешу (или Сэнтика - школьная кличка; как-то я не удосужился спросить, что, собственно, это значит) - великим русским поэтом (аббревиатура ВРП), а себя называл сэнтиковедом. По идее, радоваться надо, что имеешь такого почитателя - но Алеша пребывал в полной уверенности, что Вася следит за ним по заданию ГБ! Так продолжалось до тех пор, пока Чубарь в середине семидесятых не смылся в Америку. Самое время было рассмеяться над своими страхами, но Алеша заявил, что, несомненно, Васька уехал по заданию! ну, в самом деле, кого сейчас выпускают? а вот его почему-то сразу выпустили!..
Тем не менее Парщиков посвятил Чубарю (еще в бытность последнего в Союзе) прекрасное стихотворение, начинающееся:
Как впечатленный светом хлорофилл,
от солнца образуется искусство,
произрастая письменно и устно
в Христе и женщине, и крике между крыл.
Так мне во сне сказал соученик,
предвестник смуглых киевских бессонниц…
|
И заканчивающееся:
…блажен, кто в сад с ножом в руках проник
и срезал ветку гибкую у сада.
А на ноже срастались параллели,
и в Судный день они зазеленели.
|
В сборнике Парщикова "Выбранное", лежащем сейчас передо мной (дал почитать поэт Кутик), стихотворение напечатано без последнего двустишия. Но я-то его помню таким…
Кстати, примерно в это же время он написал:
О сад моих друзей, где я торчу с трещоткой
И для отвода глаз трещу по сторонам!
Посеребрим кишки крутой крещенской водкой,
Да здравствует нутро, мерцающее нам!..
|
А также:
Сменились имена, пока, сияя каской,
Оглядывал холмы угрюмый Ахиллес.
Промасленный шатун с копьем наперевес,
Скучает без тебя небесная коляска!..15
|
Одно из самых моих любимых (очень близкое, как если бы мне посвященное) парщиковских стихотворений этого периода:
|
СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ
Когда, бальзамируясь гримом, ты, полуодетая,
думаешь, как взорвать этот театр подпольный,
больше всего раздражает лампа дневного света
и самопал тяжелый, почему-то двуствольный16.
Плащ надеваешь военный - чтобы тебя не узнали -
палевый, с капюшоном, а нужно - обычный, черный,
скользнет стеклянною глыбой удивление в зале:
нету тебя на сцене - это ж всего запрещенней!
Убитая шприцем в затылок, лежишь в хвощах заморозки -
играешь ты до бесчувствия! - и знаешь: твоя отвага
для подростков - снотворна, потому что нега -
первая бесконечность, как запах земли в прическе.
Актеры движутся дальше, будто твоя причуда
не от мира сего - так и должно быть в пьесе.
Твой голос целует с последних кресел пьянчуга,
отталкиваясь, взлетая, сыплясь, как снег на рельсы…
|
(Насколько приятнее цитировать стихи, чем рассказывать о нестихах! Но нестихов всегда больше. Впрочем, из них-то, как известно, стихи и растут.)
В предисловии к сборнику "Выбранное", 1996, Парщиков говорит о трех предыдущих книгах (1986, 1989 и 1995). Поскольку я не имел о них ни малейшего понятия, стало быть, после 84 года (встречи на Совещании молодых писателей) мы не пересекались и не общались. Кстати, приехав в Чикаго, Алексей совершенно серьезно вопросил: "Что, у тебя нет моей книги? Странно, как это у тебя нет книги, которая сделала меня знаменитым на весь мир!"
Его даже не заинтересовало, есть ли у меня моя книга.
Что ж, он тоже не виноват, что он не еврей. Не совсем еврей, говоря точнее.
А.Очеретянский обратил мое внимание на статью в "Новом Русском Слове" в марте сего года, "СТРЕЛЕЦ ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ!"- в частности, заявление А.Глезера: Парщиков-де написал ему в 88-м году, что, мол, нигде его не печатают и последняя надежда его на "Стрелец"; и Глезер, конечно же, напечатал… Интересно, кто врет, Парщиков или Глезер? Или оба?
Сам я в 86-м году не имел не то что книги, но и публикации. Первая моя публикация состоялась в 87-м, да такая, что лучше б ее не было - все в том же киевском гнусном журнальчике "Радуга" (реакция друга из Москвы, которому послал экземпляр: "Публикация совершенно не дает о тебе представления… а журнал - как будто из тридцать седьмого года!")…
А где, собственно, еще было печататься тогда в Киеве? А можно было, живя в Киеве, напечататься где-то еще?17
Итак, у Парщикова, видимо, напечатано практически все. Теперь, цитируя, я могу пользоваться книгой. Особой необходимости в этом нет, т.к. многие его стихи я помню наизусть. А, кажется, совсем недавно (в 1978) мы обсуждали с К.К. возможность написания им статьи о нас всех, равно еще непечатных (о группе!), и наивно верили, что он действительно напишет, пока он не сообщил, наконец, что писать можно только о тех, кто уже широко печатается.
Впоследствии он-таки написал - целую книгу, в которой подробно излагает свою теорию "метакода" (честно говоря, мне она не казалась такой уж новаторской и тогда, когда существовала еще только в виде лекций по курсу фольклора, которые К.К., тогда преподаватель в Литинституте, читал нам - первокурсникам) и много говорит о поэтах-метаметафористах: Парщикове, Еременко и Жданове. Других точно и не было18.
А ведь сколько похвал он расточал, бывало, и Винову, и мне, и Мингалеву, и Проскурякову…
Точно так же М.Эпштейн некогда - приблизительно в 82 году - поместил в журнале "Литературное обозрение" статью о группе, где в черновом варианте упоминалась и моя фамилия, но в печати вместо нее появилась фамилия Ю.Мезенко (надо полагать, об этом позаботился Парщиков). Он же в частном письме, говоря об одном из наших выступлений, назвал Кутика "розовым и мертвым", а теперь ведет себя с Ильей, как лучший друг. Видимо, это тоже норма поведения - в банде.
Первое выступление группы (тогда именовавшейся "апокалиптики", причем Парщиков упорно выговаривал "апокалипсики") состоялось в 1976 году, в Киеве, в книжном магазине "Сучасник" ("Современик"). Участвовали Парщиков, я и Саша Чернов, вел вышеупомянутый М.Эпштейн, приехавший из Москвы - тогда еще малоизвестный молодой критик. Впрочем, из Москвы приехал и Парщиков - он поступил в Литинститут в 1975-м. Чернов как раз поступал, а я поступил на следующий год, в 77-м (в 78-м поступил Винов, и К.К., тогда очень стремившийся стать в группе лидером, вопросил: "Да сколько ж там талантов, в этом Киеве?!").
Чернов читал тогда, по-моему, вот это:
Я есть Иоанн царь, старший при дворе,
Царь царям соседним, царевич и царица.
Под собой имею три тысячи царей,
А хотите честно - три тысячи триста.
Много территории. Правлю я один.
Царство-государство любое поместится.
В западную сторону лучше не ходить,
В сторону восточную пеших десять месяцев.
Всякие народы на земле моей,
Есть немые люди, есть совсем горбатые.
Есть и великаны в девять саженей.
Есть мужи с копытами, с крыльями, с лопатами.
Есть зверье какое-то, помню, что с хвостом.
Там, где оно мочится, всяк предмет сгорает…
Есть и крокодилы, плачут под мостом.
Есть и птица Финикс, а живет в сарае.
Птица эта чудная, возраст лет пятьсот…
Но зато не водится ни змея, ни жаба.
Если же какая случайно заползет,
Люди подневольные пожирают жадно.
Есть гора высокая, верху не видать,
Из нее некрупная речка вытекает.
Если прыгнуть в речку ту, можно жемчуг взять.
Я уже приказывал, только не ныряют.
При дворе столовая на пятьсот бояр.
Этих, сами знаете, выкормить не просто.
В это заведение входит на паях,
с некоторой скидочкой, сам Фома-апостол.
Самое же главное чуть не позабыл:
В спальне чудо-зеркало, покрытое сажей.
Кто назло хозяину в чем-то согрешил,
Сразу это зеркало на него покажет!
|
Я читал небольшую поэму "Братья", потом вошедшую в виде реплик персонажа в мою пьесу "Разговоры в Шарантоне". Мы вчетвером сидели за столом, как в президиуме; на столе стоял графин с водой и большая кисть руки из папье-маше, которую мы стащили на детской площадке и водрузили на стол в порядке этакого якобы футуризма. Когда я дошел до строк: "…и станет день, и круг-приказ,// как гипс, зальет подвал и площадь…" - папьемашевая кисть вдруг рухнула, опрокинула графин, вода разлилась по столу… Парщиков впоследствии добавлял, что распахнулись окна, загремел гром, солнце скрылось за тучей…
И с Черновым, и с Парщиковым мы интенсивно переписывались в 76-77 годах (они были уже в Москве, а я в Киеве). Чернов присылал мне стихи:
Волосы, водоросли, грустные гусли.
Светится озеро голосом русым.
Сосны подводные, корни над берегом -
Длинное, дальнее, вечное дерево!
Морщит от зависти лоб озабоченный
В весельной заводи омута вотчина.
С ветра высокого падают боком
Соколы трапезы мокрого бога.
Ай да зеленые тонкие гусли!
Черные лебеди, белые гуси,
Красное солнышко, желтая грива,
Соболь, куница да белка игривая.
Люди торговые, бражники, воины
Криками страшными обеспокоены,
Смотрят на месяц, теченьем надломленный,
Перебирают мечи и соломины.
Но незаметными струями рыщет
Черное озеро в денежном днище…
|
К сожалению, три четверти архива я, уезжая, бросил, и поэтому невозможно восстановить ранние стихи Чернова и многих других - только то, что помню наизусть. У Чернова в этот период была масса откровенных подражаний Парщикову (одно из них было посвящено И.Жданову). Я в одном из писем указал ему на это (хорошо помню свою фразу: "Кому нужен второй Парщиков?.."), на что он ответил: "Это правда, что подражаю, но очень быстро - и скоро перестану…"
Именно тогда я посвятил несколько стихотворений ему, Парщикову, Винову - впоследствии посвящения снял. В частности, Парщикову была посвящена мини-поэма "Аэронавтика". Впрочем, он считал, что ему посвящено мое стихотворение
Я был игрушкой, заводным Орфеем,
несбывшегося хора корифеем,
бормочущим строку "Упанишад"…
|
Хотя оно скорей посвящено самому себе. Это прекрасно понял Проскуряков, приславший мне стихотворение с посвящением: "Заводному Орфею, игрушке" - которое я, к сожалению, не помню.
|
(ТУТ БЫ ДАТЬ ЭТО СТИХОТВОРЕНИЕ!)
|
Еще в 75 году Парщиков каким-то образом познакомился по переписке со Ваней Ждановым. Помню в его письме, которое Алеша мне показывал, строчку: "…Сюрреалисты прикололи предмет, как бабочку, на булавку…"
Я впервые увидел Жданова в 76 году. Он сразу меня спросил: "Ты, говорят, с Тарковским19 хочешь познакомиться? Зачем тебе это надо? Он же интеллигент!" Я, признаться, не нашел, что ответить. Сам Жданов был хорошо знаком с Тарковским…
Свою первую книжку Жданов подарил мне с трогательной надписью: "Рафу - неукротимому модернисту, соратнику, метафизическому соплеменнику - И.Ж., 1983, янв.".
На обложке изображена женская головка, и, поскольку книга называется "Портрет", то Парщиков не уставал острить, что читатель полагает, будто это изображен автор.
"Из всех метареалистов мне близок только Жданов," - слова А.Очеретянского. Мне же Жданов как раз самый неблизкий. Мне он кажется холодным и бесполым. Невозможно даже представить себе его лирического героя страдающим от неразделенной любви20.
Но, похоже, никто в группе, кроме меня и Проскурякова, и не писал о любви, разделенной или нет. "Сколько ж можно писать о любви? - вопросил меня однажды не помню уж кто. - Пора уже писать о спасении души!" На что я ответил: "Стоит ли спасать душу, не знающую любви?.."
…Он и не думал о том, что две линии,
пересекаясь где-то вдали,
ускоряют перспективу,
единственнная звезда на небосводе
укорачивает взгляд.
Он устал, как стадо слонов, бредущих сквозь Альпы
под бичами солдат Ганнибала.
Он идет, пока виноват.
|
Почему я выбрал именно это стихотворение из сборника Жданова?
Может быть, потому, что вспомнилось стихотворение Кутика:
…слоны Ганнибала, ночуя в Альпах,
узнавали запах Ганнибаловой кожи,
и его солдат, и его куртизанок тоже…
|
Парщиков, в свой приезд в Чикаго, пенял Кутику, что тот у него много сдирает. Двадцать лет назад он в том же обвинял Сашу Еременко (тогда они еще были в одном семинаре). Мне и тогда было странно слышать это, странно и сейчас. Тогда, помню, в письме из Москвы он жаловался на Ерему, который "украл" у него какую-то строчку. В то же время сам Парщиков тогда же позаимствовал для стихотворения "Аполлон, Марсий" выражение "твой нежный член" из моего перевода Мирослава Валека: "О нежный член! Твоя суть сводится к потере семени…" В ответном письме, указывая на это, как на пример, я пытался объяснить ему, что ничего страшного в этом нет, это нормально; как мне не жалко ему "нежного члена", так и он не должен жалеть Ереме какой-то своей строки, потому что мы - одна группа, у нас общая лаборатория… и тому подобные благоглупости.
Я действительно верил в это.
На следующий год Парщиков подарил мне книгу Л.Андреева "Сюрреализм", где речь шла, в частности, о том же: общей лаборатории…
окончание
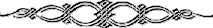
Примечания
1 Ныне американский.
2 "Вопросы литературы".
3 Цитирую оттуда по памяти:
…но, теребя платок в горошек,
- Люблю, - она сказала, - кошек!
Он возразил:
- Это гуманно,
но, я бы сказал, неопрятно в некоторых местах.
Она вздохнула:
- Этим летом
мне благородно и спокойно…
И кисти, словно эполеты,
легли сержанту на погоны.
|
4 Леви-Стросс, "Структурная антропология".
5 К.Кастанеда, "Путешествие в Икстлан".
6 К.Кастанеда, "Другая реальность".
7 К.Кастанеда, "Путешествие в Икстлан".
8 Когда-то мы с ним подумывали сделать подобную книгу… Хорошо, наверное, что не сделали.
9 Термин, взятый у Кастанеды.
10 Ю.Кисина; ныне, как и Парщиков, в Германии.
11 Sic!
12 Читая эти бесконечные "Раф", хочется взять автора за волосы и трахнуть головой об угол стола, на котором он писал! Интересно, пришло бы ему в голову написать "Леша Парщиков"? Или, к примеру, "Ося Бродский"?
И хотел бы я знать, что ему известно о моих "теоретических посылках" и что именно я осознавал или не осознавал?
13 "Почему не Мойша?" - якобы сострил Парщиков.
14 Настоящая фамилия Парщикова - Райдерман, но он поменял фамилию и национальность еще в десятом классе, поскольку еврей у него только папа, а мама - казачка. Это было нормально в те годы - любым путем вырваться из круга, в котором тебя держала советская власть. Если бы мог, то же сделал бы и я. Да, собственно, и сделал - поступая в Литинститут, написал в анкете "русский" - по совету того же хитроумного Алеши…
15 Я спародировал все это:
О сад моих друзей, куда намедни влез я
С ножом наперевес и думал: ни души!
Но, заломивши глаз, увидел Ахиллеса.
Весь в масле, он стоял, шатая кривошип.
И, распрямившись и сияя задом кротко,
И в список кораблей уставясь напоказ,
Изрек: "Гони, поэт, крутой столичной водки!
Чай, знаешь, без нее в Элладе, как без глаз!"
Сменились имена, фамилии остались.
Ребячился Скамандр и в Лету впасть спешил.
И до того мы с ним изрядно насосались -
Вкруг города всю ночь таскал меня Ахилл!
|
Алеша очень обиделся.
16 Совершенно реально существовавший самопал, который Парщиков видел у меня дома и который я потом принес в театр-студию " ТеатральныйКлуб" (ныне - "Неомифологический театр"), о котором можно рассказывать очень долго, с ним связан - до сих пор - огромный кусок моей жизни, но это совсем иная тема)…
17 Да, можно - за рубежом. Но тогда на это было трудно решиться…
18 См. статью А.Привалова (псевдоним) "Победа и поражение" ("Знамя", №7, 1998): "…бывший киевлянин Рафаэль Левчин - один из зачинателей, наряду с Алексеем Парщиковым и саратовским автором Юрием Проскуряковым, того поэтического течения, которое потом критики назвали метареализмом и переселили, в видах практического удобства, в Москву, вписав вместо Левчина с Проскуряковым Жданова и Еременко…"
19 Речь шла, естественно, о Тарковском-старшем.
20 Профессор Джеральд Янечек решительно не согласился со мной, приведя в качестве аргумента стихотворение "Дом" из того же сборника "Портрет" - за что я очень ему очень благодарен - всегда важно увидеть свою ошибку:
…Умирает ли дом, если он забывает о нас?
Поцелуй озаряет его. Ты сказала:
благословляю тот день, который соединит нас,
и все, что будет потом…
То, что было потом, охраняют теперь снегопады…
Тот, кого ты ждала, а потом в этом доме встречала,
сам придумал себя для тебя и не знал, что придумал себя…
|
Да, это прекрасное стихотворение о любви, и я неправ. Но в чем-то и прав - эта любовь занесена снегом. Не забыта, но заморожена… Вообще же занятно, что мои претензии к Жданову в чем-то напоминают претензии Лимонова к Бродскому ("Поэт-бухгалтер", "Мулета А", 84).
окончание
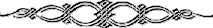
|
![]()
![]()